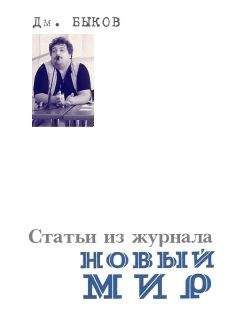Замечание в скобках. Сегодня анализ текстов Лосева вообще сделался редкостью, поскольку в современной литературной иерархии (выстраиваемой, правда, в изданиях весьма крайних и людьми весьма молодыми) Лев Лосев стал — возможно, сам того не желая — каким-то заместителем Иосифа Бродского, не то чтобы наследником (диспропорция слишком наглядна), но каким-то, так сказать, ВрИО. Статусно Лосев действительно лучше всех годится на эту роль — эмигрировал в семидесятых, поныне не вернулся, в России бывает редко, наездами и, кажется, без особенной охоты; литературная репутация безупречна; пишет очень хорошие стихи. При всей любви автора этих строк, например, к Кенжееву (тоже проживающему по большей части за границей) видно, что Лосев попросту интересней, не говоря уж о чисто звуковой его силе, и поиск его проходит гораздо ближе к передовым рубежам отечественной поэзии, к ее форпостам. Так что в своем новом статусе классика (а некоторые глянцевые обозреватели производят Лосева даже в ранг «лучшего русского поэта современности», от чего его самого, должно быть, воротит) Лосев буквально захлестывается потоком лести. Перед ним стараются выслужиться, памятуя о том, скольких малоодаренных авторов Бродский, по добродушию или равнодушию — скорей всего по чувству вины таланта перед бездарью — выручал то предисловием, то приглашением, то теплым университетским местечком. Потому-то Лосев, тоже университетский преподаватель, главный поэт русского зарубежья, выслушивает такое число заискивающих, монотонных похвал. Рискнем несколько порушить эту благость и заметить, что политические, например, стихи Лосева выдают какую-то даже не эстетическую, а и нравственную глухоту — и при всем при том полны самоочевидностей, газетных банальностей в худших традициях постперестроечной прессы: «Как всякий старый сталинист, был Чаушеску зол и туп. Хлестнул его свинцовый хлыст и превратил в холодный труп». Ай как славно. Иронично. Порадуемся за свободный народ. «В избе неприютно, на улице грязно, подохли в пруду караси, все бабы сбесились — желают оргазма, а где его взять на Руси!» В иных газетах писали лучше. К сожалению, именно эти фельетонные обертоны, прокрадываясь в ностальгические стихи Лосева, портят всю картину — то упоминанием аэродромной колбасы, единственной на всю область, то очередными инвективами против антисемитов, хотя сколько-нибудь серьезного анализа пресловутого русско-еврейского вопроса мы у Лосева не найдем — и, может быть, слава Богу.
Надо ли удивляться, что у поэта, который так мало уверен в собственном существовании и тем более в существовании внешнего мира, главная лирическая тема — любовь — тоже присутствует в каком-то очень редуцированном, особо стыдливом и целомудренном виде. Ее, собственно, почти и нету — то ли настолько сильна, то ли, напротив, настолько незначительна; хочется верить в первое. На всем шестисотстраничном пространстве «Собранного» лирическая героиня отсутствует полностью — или присутствует как участница диалога «Норковый ручей. Подражание Фросту»; но там любовная тема загнана в подтекст еще более глубокий, нежели у Фроста. У Лосева совершенно нету стихов о любви.
Остается метафизика, Бог — и тут Лосев на редкость откровенен, даже напорист, случаются у него прямые повторы. Лосев все время требует от себя (и очень хорошо, что не от Бога) веры. Ведет сам с собою предельно жесткий диалог на эту тему. И снова не договаривается ни до чего определенного: «Угоден ли Богу агностик, который не знает никак — пальто ли повесить на гвоздик иль толстого тела тюфяк?» (Сказано, по-моему, хорошо — прямо и безжалостно.) «„Возможно ли не веровать в бессмертие души, но все же слушать ангелов, посланников Господних?“ Ждет отправленья пароход, а я стою на сходнях, и подо мной мелка вода и шумны камыши, и незнакомый бережок передо мной в тиши. „Ведь я могу сказать „ревю“, могу сказать „еврю“ — так почему же я одно никак не говорю?“ Туман, и все-таки тропа свое не прекращает гнуть. Пора куда-нибудь шагнуть — уже трубит труба». Почему уж так непременно пора, почему собственный честный агностицизм не устраивает Лосева? То ли лета клонят к компромиссу, то ли со временем поэт обрел утешение в самой возможности вопрошания: «„Ты веришь, что дочь Иаира воскресла, и дали ей есть, и, вставши, поела девица? В благую ты веруешь весть?“ — „Не знаю, все как-то двоится…“ В ответах тоскливый сквозняк, но розовый воздух в вопросах. Цветет вопросительный знак, изогнут, как странничий посох». Ну, пусть цветет. Не обязательно, в конце концов, верить в загробные воздаяния или иные приключения — для лирики достаточно ощущать Присутствие (без которого, как показывает опыт, всякое стихотворчество делается безнадежно плоским). Присутствие — вот оно, хотя радости не добавляет: «Он в халате белоснежном, в белом розовом венце, с выраженьем безнадежным на невидимом лице». Невидимое, да; но безнадежность — различима.
Вот такой парадокс: лирического «я» нет, родины — кроме литературы — нет, любви нет, Бог полуприсутствует, угадывается («Незримый хранитель над ними незрим»), но надежды нет уж точно. А поэт — есть, наличествует, несомненен. В этом и состоит главное лирическое противоречие Лосева, и только им, подозреваю, он ценен для русской словесности, хотя огромны и чисто формальные его заслуги: множество оригинальных рифм, неизменно изящная композиция, живая и естественная речь с элегантными вкраплениями жаргонизмов, канцеляризмов и неприличностей.
Подчеркиваю: лосевское «отсутствие автора» ничего общего не имеет со «смертью автора», любимым тезисом постмодернистов. Автор жив, вот он. Но — как и Бог — не показывается: «Он слышит звон, как будто кто казнен там, где солома якобы едома, но то не колокол, то телефон, он не подходит, его нет дома». Чуть ли не десять лет спустя тот же «левлосев» (начавший писать серьезные стихи довольно поздно, а потому и меняющийся довольно мало) повторит почти дословно: «И когда кулаком стучат ко мне в двери, когда орут: у ворот сарматы! оджибуэи! лезгины! гои! — говорю: оставьте меня в покое. Удаляюсь во внутренние покои, прохладные сумрачные палаты». Покои, прямо скажем, неприемные, равно как и часы: «И граница его на замке» («Сонатина безумия»).
Очень может быть, что где-то во внутренних покоях, граница которых — на замке, пребывает, по Лосеву, и Бог. Не видящий уже никакого смысла откликаться на беспрерывные мольбы и призывы, исходящие главным образом от трусов и пошляков. Не открою Америки, если скажу, что все поэты делятся на две категории: одни в неведомую точку, обозначаемую Божьим именем, помещают возлюбленную (возлюбленного, партнера), другие — экстраполируют несколько усовершенствованного себя. Первые предъявляют претензии, умоляют, изобличают. Вторым присуще кроткое, но несколько брезгливое жизнеприятие. Лосев — из вторых.
Любопытно, что словесность играет в мировоззрении Лосева роль настолько ключевую, что и тоска по родной Империи вытесняется тоской по Бродскому, грусть по стране — с грустью по ее лучшему поэту (тоже довольно тоталитарному по сути своей, что заметил — без всякого осуждения — тот же Кушнер: «Счастье, что он пишет стихи, а не правит Римом»). Но даже обожествляемая словесность никоим образом не способна изменить мир, она, строго говоря, и не участвует в нем, — есть у Лосева замечательное стихотворение о Булгарине — о том, как даже самые жалящие инвективы проходят мимо живого, полнокровного и вполне довольного адресата, который своему Ювеналу еще и некролог напишет. Одним словом, поражение и бегство на всех фронтах.
Пожалуй, во всей его скрытной и целомудренной лирике (в которой даже самые грязные детали и двусмысленные шуточки ежели и случаются, только подчеркивают авторское к ним омерзение) наиболее откровенны восемь строк, которые я не побоюсь назвать одним из лучших лирических стихотворений, написанных по-русски в двадцатом веке:
ПолемикаНет, лишь случайные черты
прекрасны в этом страшном мире,
где конвоиры скалят рты
и ставят нас на все четыре.
Внезапный в тучах перерыв,
неправильная строчка Блока,
советской песенки мотив
среди кварталов шлакоблока.
Заметим здесь характернейшее для Лосева нежелание прямо отсылать к предмету полемики, к оспариваемой цитате (и впрямь каким моветоном гляделась бы «неправильная строчка Блока» в эпиграфе): автор обращается к собеседнику, не просто знающему контекст, но погруженному в него. Отсюда и чрезвычайно скупые отсылки к истинной теме того или иного стихотворения: предполагается, что читатель верлибра «31 октября 1958 года» и так в курсе, как повели себя Мартынов и Слуцкий в день исключения Пастернака из СП; отсюда же феерическое количество скрытых цитат, причем оговариваются и атрибутируются — как нарочно — лишь самые заезженные, и без того очевидные. Может быть, здесь же — одна из причин лосевской пластической скупости, мизерности и немногочисленности описаний: имеется в виду, что читатель все способен достроить по ничтожному штриху. Любопытную проговорку находим в лосевской прозе, которая, конечно, ни в какое сравнение не идет с его поэзией: